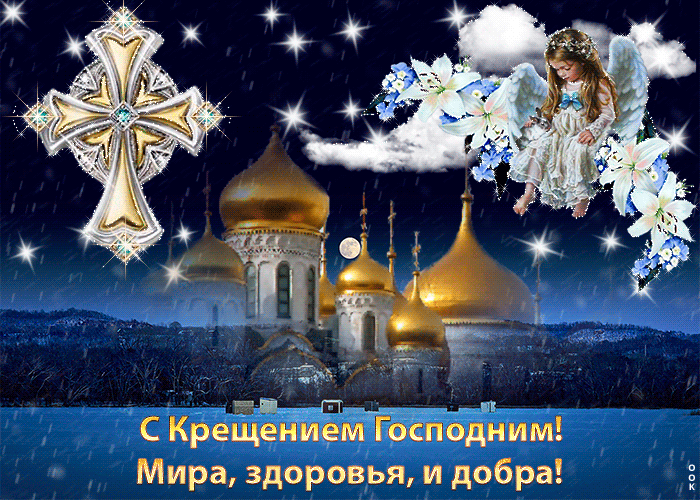Семь футов под килем - 21
- Опубликовано: 05.01.2013, 08:37
- Просмотров: 330433
Содержание материала
* * *
... Никому, в том числе и Злотниковой, в голову бы не могло прийти, что Ольшевский, падавший, казалось, с ног от усталости, попросту дурачит их, водит, что называется, за нос и что на самом деле он далеко не так измучен и уныл, как казалось.
Да, что верно, то верно: спустившись в первый раз по приказу Кокорева в туко-молку, он скис, упал духом. Даже по сравнению с фабрикой, где временами парням приходилось очень несладко, Косте здесь показалось несравнимо тяжелее. И не только в смысле работы: метровой высоты завалы рыбьей муки ждали своей очереди быть засыпанными в десятки джутовых мешков, грудой валявшихся на пыльном полу. Мешки предстояло наполнить, снабдить матерчатой биркой, зашить и подтащить, наконец, к отверстию люка. Только потом, во время перегрузок, тук — из трюма в трюм — перекочует на траиспорт-
ник.
Хуже было другое: человек, попавший в тукомолку — узкий колодец, а внутри несколько глухих отсеков — чувствовал себя, особенно вначале, одиноко и неуютно.
Однако прошел час, за ним другой, и Костя понемногу освоился со своим новым хозяйством, привык к цикличности выброса тука из сушильного барабана, побывал в помещении за перегородкой, где сиротел в углу сварной железный столик. Парень присел к нему, поводил пальцем по пыльной поверхности и неожиданно для самого себя погрузился в довольно-таки долгую и невеселую задумчивость.
В поле его зрения нечаянно попался черный шланг, он метра на два тянулся от баллона со сжатым воздухом. Ольшевский всмотрелся в этот шланг, встрепенулся, будто вспоминая нечто, связанное с ним, потом вскочил на ноги и, просветлев лицом, сплясал короткую, но пламенную джигу.
Вслед за тем он предпринял и вовсе непонятные действия. Неизвестно для какой цели он наполовину открутил вентиль у баллона со сжатым воздухом, сам шмыгнул за перегородку, а шланг, стиснув пальцами кончик для создания большего напора воздушной струи, направил на холмик тука.
В соответствии с законами аэродинамики мука тут же взвилась вверх, порхнула по горловине трюма на фабрику.
— Эй, внизу, — тотчас заорали оттуда.— Ты что там, балбес, делаешь?
— Мука из барабана высыпалась, — нарочито жалким голосом отозвался Костя.— И не орите, черти. Вас бы сюда!
Наверху побурчали-побурчали и стихли. Костя, укрывшись в подсобке от оседавшей желтой метели, неторопливо, со смаком, закурил. На губы его то и дело набегала хитрая улыбочка...
* * *
«...Поднимаясь по вертикальной лестнице на фабрику, я, на всякий случай, потрогал шрам—для памяти. Сделал я это для того, чтобы меня не подвела проклятая улыбчи-вость. Неоднократно уже случалось: обстоятельства, иной раз, аховые, плакать впору, а у меня — рот до ушей. Ну, понятно, и доставалось за это на орехи! Как, бывало, меня только не крестили: и легкомысленный, дескать, и черствый, и циник...
Позже я выучился управлять собственной мимикой, но какой ценой! Чувствую, порой, что вот-вот и, разумеется, не к месту разулыбаюсь майской розой, так тут же норовлю вспомнить что-нибудь неприятное. Отвлечешься невольно, затуманишься, а тем временем кризисная минута, глядь, уже и прошла.
Так вот, потрогав рубец на щеке, я вылез из тукомолки с самым похоронным видом. Уверен: все, в том числе и Катя, решили, что тукомолка и меня перемолола. Мне это на руку. Пусть думают. Особенно Кокорев. Я и строил свой план в расчете на его озлобленное недоброжелательство.
Тут важно было не переиграть, но я, кажется, с задачей блестяще справился: удрученности и усталости на моей физиономии было ровно столько, сколько требовали обстоятельства. Во всяком случае, Кокорев поверил. Не скрывая злорадного торжества, он поспешил «обрадовать» меня приказом, что и последующие смены мне предстоит провести внизу.
Я обреченно опустил голову. Если бы только мастер мог догадаться, какой музыкой звучат для меня его слова!
Вечером, во время встречи на верхнем мостике, я едва отбился от Кати. Дрожа от праведного негодования, она советовала мне не спускать обиды и пожаловаться на ко-коревский произвол Петру Олеговичу, старпому или даже капитану.
— Чего ты боишься? Не хочешь сам, давай я при случае замолвлю за тебя словечко,— убеждала она.
Однако я отнекивался.
— Но почему? — удивлялась она. — Почему ты так легко миришься с явной несправедливостью? В тукомолке, насколько я знаю, должны работать все члены бригады по очереди, а Кокорев на тебе одном выезжает. Поддашься раз, два, потом трудно будет отстаивать свою правоту!
Я испугался ее напористости. Насилу уговорил не вмешиваться в мои дела и, упаси бог, ни к кому не обращаться. При этом пришлось приоткрыть свои карты. Слегка, разумеется.
Екатерина не сразу разобралась во всех тонкостях моей выдумки, а, поняв, долго смотрела на меня с недоумением.
— Но разве после работы этим нельзя заниматься? — спросила она холодно.
Иногда Екатерина меня удивляет. Хорошо ей там на камбузе: тепло, светло и мухи не кусают, а тут каждую минуту в оба гляди — как бы чего не случилось. Представится же возможность сачкануть, да еще подзаработать при этом — сразу упреки. Эх, Катя, Катя...
Такие вот соображения бродили в моей голове, когда через шесть часов я вновь спустился в тукомолку. Первое впечатление от нее точно — убийственное, но я быстро взял себя в руки. Для начала проворно засыпал рыбьей мукой несколько мешков, зашил их толстой ниткой и подтащил под горловину трюма — чтобы заглянувшему пена-роком сверху казалось, будто работа идет полным ходом.
Потом, предупреждая чье бы то ни было желание спуститься вниз, повторил финт со сжатым воздухом. Сам, понятно, заблаговременно спрятался в подсобку. Мучная пыль тут же устремилась вверх, на фабрике раздались возгласы недовольства. Я с наслаждением прокашлялся несколько раз громко и натужно, будто бы полузадушенный взвихрившейся пылью. Теперь-то уж никому и в голову не придет проведать меня.
С деловой, так сказать, частью было покончено. Меня ждало более приятное занятие, к которому я подготовился заблаговременно и ради которого и устраивал весь этот спектакль.
Я развернул большой пакет, пронесенный в тукомолку под брючным ремнем, вынул из него и разложил на столике комплект ножичков, пилок, всякого рода самодельных приспособлений для резки трафаретов. Здесь же было несколько резиновых листов, толщиной в палец, я их предварительно заготовил в нужном формате. Затем из свертка появились карандаши и тексты заказанных Петром Олеговичем трафаретов — мне предстояло вырезать оттиски для мороженой ставриды и минтая, на промысел которых «Терней» должен был вот-вот двинуть.
Вместе со всем этим добром я извлек и свой блокнот для набросков. Прихватил его без задней мысли, мало ли: а вдруг придется текст штампа в обратном порядке набросать или же расположение слов графически нагляднее представить.
Ну, раз взял, то пусть лежит, авось, пригодится, хотя, если говорить начистоту, надо бы мне быть более осторожным: себя-то уж я, кажется, знаю, как облупленного. Но недаром сказано: благими намерениями вымощена дорога в ад! Моего рвения чинно резать трафареты хватило минут на тридцать.
Острым скальпелем я успел лишь выбрать неглубокий прямоугольный ободок по краю будущего штампа, но потом как-то незаметно отвлекся, покурил, вышел из подсобки и зашил еще мешков пять муки; помаячил, создавая рабочий шум, под трюмным отверстием. Вроде, можно было со спокойной душой возвращаться к прерванному занятию, но не тут-то было...
Кинув случайно взгляд в дальний угол тукомолки, я не мог не подивиться своеобразной мрачной выразительности этого помещения. Лампочка, облепленная густым слоем пыли, светила тускло; медленно, в такт судовой вибрации, оползали вершины мучных гор. Мне почему-то вспомнились Ван Гог, его бессмертные «Едоки картофеля», где лица рудокопов словно бы выплывают из тьмы их нищего жилья... И тут на меня вновь «накатило»...
И вот, не знаю уж как, но в следующую минуту в моих руках оказались блокнот и карандаш, а сам я, отыскав удобный ракурс, пристроился на недосыпанном мешке. «Только бы для памяти набросать общие контуры и фон схватить, — уговаривал я себя, — это займет не более пяти или десяти минут, ну, самое большее — полчасика...» Когда я оторвался наконец от блокнота, безжалостные часы показывали, что смена близится к концу, а у меня, как говорится, и конь еще не валялся. Наскоро, не взвешивая, заполняя под завязку разные по объему мешки, я в темпе разделался с несколькими из мучных куч, а по оставшимся походил, изменяя их рельеф, накидал всюду в хаотичном беспорядке мешки, словом, как мог, спрятал концы в воду.