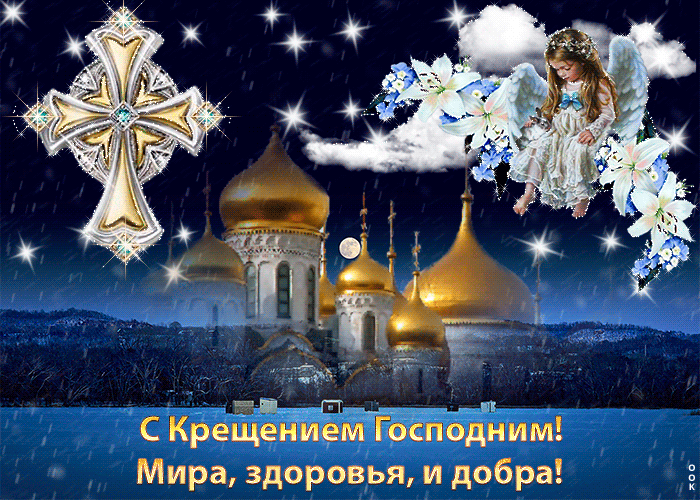Море на вкус солёное... - 15
- Опубликовано: 18.03.2011, 13:13
- Просмотров: 138778
Содержание материала
ФОРС-МАЖОР
Через несколько дней на «Аджиголе» появился человек в солдатской ушанке и в замасленной спецовке. Спросив боцмана, он подождал у сходни, пока Иван Максимович вышел из кубрика, и назвал себя:
— Прораб Никольский. Показывайте ведомость.
Иван Максимович засуетился, побежал, громыхая сапогами, в кубрик и вскоре вынес пухлую папку, на которой рукой покойного капитана была выведена тушью крупная надпись: «Ремонтная ведомость буксирного парохода «Аджигол».
— Идемте в кают-компанию, — пригласил Иван Максимович, — там и поглядим,
В кают-компании они засели надолго. Груня несколько раз заглядывала туда и сообщала:
— Ругаются. Максимыч аж красный увесь,
Я осторожно приоткрыл дверь и стал слушать. Мне не терпелось узнать, когда начнется ремонт.
Прораб в сбитой на затылок ушанке вымарывал из ведомости целые листы. А боцман, чуть не плача, говорил:
— Как же так? У якорей лапы погнуты, грунт не держат, а вы и на них крест ставите! За иллюминаторы я уже не вспоминаю.
Прораб снял ушанку, Волосы его слиплись от пота, Заметив меня, попросил;
— Парень, открой иллюминатор.
И, снова принимаясь за ведомость, устало сказал!
— Да поймите, боцман, якоря еще поработают. Иллюминаторы — у нас на «Крым» ставить нечего. Вот с котлом вы молодцы. Почистите, а мы гидравлическое испытание проведем. Ну и главную машину сделаем. Что еще? Самое важное, чтобы регистр документы вам выдал... — Прораб отодвинул ведомость и почесал затылок. — Вот баббита на заводе нет. Если придется перезаливать подшипники, не знаю, что будем делать,
— Как это, баббита нет?
— А вот так. «Крым» съел.
Боцман задумался и вдруг сказал!
— Может, с рабочими поговорить?
Прораб усмехнулся:
— Они его в карманах не держат,
Нахлобучив ушанку, он ткнул в карман спецовки карандаш и встал.
«— Считайте, ремонт начался. Фамилия бригадира Губский. Один из лучших наших слесарей. Недавно демобилизовался. Скоро придет. А баббит, пока еще далеко до него.
Когда прораб ушел, я спросил боцмана:
— А что это — баббит? Звучит интересно.
— Звучит интересно, только, слышишь, нет его. Баббит — это сплав свинца, олова и бронзы. Применяют его дли заливки подшипников судовых машин. Когда он становится твердым, он похож на белый металл. Зови Кольку, совещаться будем.
Мы собрались на корме. Груня, сворачивая самокрутку, вопросительно поглядывала на боцмана. Ее белая куртка чернела дырочками от искр. Недаром боцман называл ее махорку «антрацит». Колька зевал. Как всегда, он пришел под утро.
Боцман прошелся перед нашим маленьким строем и торжественно сказал:
— Вот что, товарищи, члены экипажа буксирного парохода «Аджигол». Сегодня завод начинает ремонт. Поэтому прошу внимательно выслушать.
Колька захлопал. Груня сердито спросила:
— А шо мы робымо, Максимыч, як не слухаем?
— Вопрос! — Колька поднял руку.
— Ну?
— А когда ремонт закончат, не сказали? А то мне не терпится мусорные баржи таскать. Другой работы этому корыту все равно не дадут.
— Замолчи!
— Чего там «замолчи». Я вчера ребят на Дерибасовской встретил. На перегон едут. Мощнейший буксир принимать будут. А это...
Колька показал на ободранную трубу «Аджигола» и сплюнул.
Боцман побагровел, но промолчал.
— Можно разойтись? — невинно спросил Колька.
— Отставить! Кому не нравится буксир, может подать заявление об уходе. Понятно, матрос Рымарь? — И уже тише боцман сказал: — Ты лучше меня оскорби, а не «Аджигол»...
— Да не слухай ты его, Максимыч!
— Ладно. Теперь дальше. Кто на вахте будет — чтобы сходня не болталась. И спасательный круг на месте чтоб был. Хватит, я перед Мишей из-за вас краснел. А тебе, Груня, наказ. Люди в машинном отделении работать будут, сыро там. Может, кипятка попросят или обед разогреть, без разговоров.
— Ты шо, — обиделась Груня. — Та хиба я...
— Мое дело напомнить. А вы... — Боцман с неприязнью посмотрел на нас с Колькой, словно и я был виноват в Колькиной выходке. — А вы закончите сегодня обивку и грунтовку бака. Завтра котел начнем чистить,
— Какой еще котел? — встрепенулся Колька. — Я сюда котлочистом не нанимался.
— Не нанимался?.. — Боцман подошел к Кольке вплотную. — А кем же ты, товарищ Рымарь, сюда нанимался? Пропойцей? Народное добро пришел на «Аджигол» пропивать? Да за один только бушлат, который ты барыгам возле «Дома царя Ирода» продал, тебя из пароходства гнать надо! Но я все надеюсь, товарищ Рымарь, надеюсь, что в тебе нормальный человек заговорит. Не подрывай моей надежды. Слышь, не подрывай!
Боцман отошел от Кольки и тяжело опустился на кнехт. Ноздри его крупного носа гневно раздувались. Не глядя на нас, он бросил:
— Все. Можно разойтись.
После чая боцман ушел на завод. Груня занялась на камбузе кастрюлями. Колька стучал на баке киркой. Он стучал с такой силой, что из-под кирки летели искры. Поглядывая на злую Колькину спину, я сметал в кучу сбитую им ржавчину. Очищенные места палубы нужно было загрунтовать — покрасить суриком, чтобы палуба не ржавела.
Закончив подметать ржавчину, я отложил голик и взял в подшкиперской кандейку с грунтом. Засунув за пояс кисть, я направился к брашпилю и вдруг снова увидел немцев. Их было немного, человек пять. Они катили по берегу тачку, груженную металлическим ломом. С тачки свисали куски покареженного железа и погнутые прутья с остатками бетона. Мундиры на немцах были грязными, к сапогам налипла глина. Немцы расчищали за доком котлован. Там должен был строиться новый корпусный цех.
Конвоира с пленными не было. Да и куда они могли убежать...
Поравнявшись с нашей сходней, немцы остановились. Один из них, рыжий, с выпуклыми светлыми глазами, подошел к самому борту и, картавя, сказал;
— Куррить.
Я развел руками.
Немец протянул мне ножик с плексигласовой ручкой:
— Дррай пипирроса. Айн, цвай, дррай. — И показал три пальца.
— Их найн курить, фарштейн?
— А ну, гони их отсюдова! — загремел за моей спиной Колькин голос. — Давай, давай, арбайтен!
— Я, я, — согласно закивал немец и, понурив плечи, поплелся к тачке.
— Нашел с кем говорить! — напустился на меня Колька. — Вкалывай, салага. Дракон придет, скажет — ничего не делали!
Я взялся за кисть и вдруг увидел сбегавшую по сходне Груню. Она закричала немцу:
— Пидожды!
Немец остановился. Груня подбежала к нему и протянула кисет:
— Бери. На всех бери, — Она показала на остальных немцев.
— О! Данке, данке шон! — расплылся в улыбке пленный. Он торопливо высыпал в карман мундира махорку, вернул Груне кисет и протянул ножик, который предлагал мне.
Груня оттолкнула его руку и пошла назад.
— Данке шон! — повторил немец и пошел к своим. Громко переговариваясь, пленные покатили тачку
дальше.
На палубе к Груне подскочил Колька:
— Ты что, тронулась? На обед еще их, сволочей, пригласи!
— И приглашу, — огрызнулась Груня.
— Ну — дура!
Колька вернулся на бак и так застучал киркой, что Груне пришлось задраить наглухо камбузную дверь.
Я тоже не мог понять Груню и, ожесточенно работая кистью, снова вспомнил оккупацию...
Как-то зимой Екатерина Ивановна попросила достать ей на Привозе валерьяновый корень. «Сердце успокоить», — объяснила она. Знакомые торговки дали мне адрес одной старушки. Она торговала травами, но уже несколько дней не появлялась на базаре. Жила старушка на Молдаванке.
Над городом свирепствовал норд-ост. Подгоняемый ледяным ветром, я шел быстро, изредка останавливаясь возле афишных тумб, обклеенных немецкими приказами. За тумбами не так чувствовался ветер. Читая приказы, можно было передохнуть от холода и подышать на замерзшие пальцы. Приказы были разными, но заканчивались одним словом: «расстрел». Расстрел за несвоевременную сдачу для победоносной германской армии теплых вещей, расстрел за прослушивание большевистских передач, расстрел за оказание помощи скрывавшимся в катакомбах партизанам...