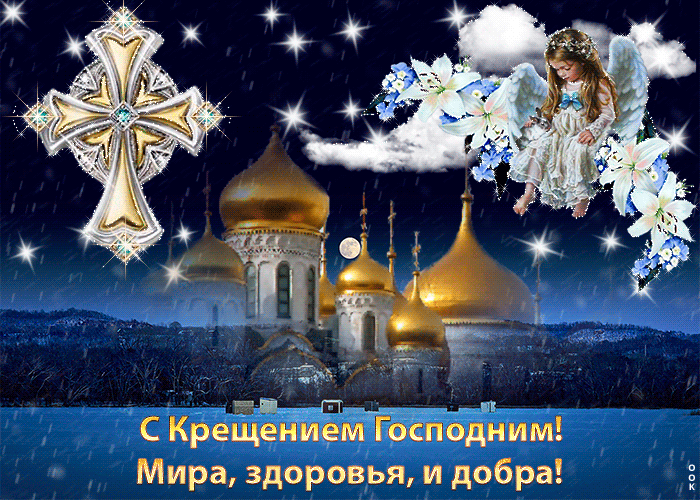К югу от линии - 21
- Опубликовано: 01.04.2011, 07:28
- Просмотров: 223085
Содержание материала
АВАРИЙНЫЙ ЛАЗ
Проверить электропроводку в аварийном лазе вызвался Дикун. Как всегда, сам напросился, едва только электрик поведал свои заботы Загорашу.
— Какой может быть разговор? Лично для меня это пара пустяков, — заявил Дикун и уже вполуха выслушал дальнейшие пояснения Шимановского.
— Так я на вас надеюсь, — заключил Петр Казимирович. — Дело хоть и муторное, но, по существу, пустяковое. Мы бы и сами с Пашей могли, но ведь не разорваться же...
— Не надо лишних слов, — нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, заверил Дикун. — Давайте сюда инструмент и будьте покойны. Сказано — сделано, — его белесые, не знающие угомона глаза уперлись в Загораша. — Правильно я говорю, Андрей Витальевич?
— Конечно! — выразительно глянув на электрика, поспешно подтвердил стармех.
Шимановскпй понимающе отвел глаза. Себя не обманешь. Оба они не питали особых иллюзий насчет заверений третьего механика, который хоть и нес исправно вахты, когда кругом были люди, но предоставленный самому себе развивал такую сокрушительную инициативу; что оторопь брала. Чисто формально придраться к Дикуну было не так просто. Машину он знал до мельчайшего винтика, не чурался никакой работы, а его совершенно искренняя готовность оказать услугу старшим товарищам просто-напросто обезоруживала. Несмотря на неприязнь многих, Дикуна приходилось принимать таким, как есть, потому что он крепко сидел в седле. Восемь лет протрубив в должности моториста, он нашел в себе упорство и силы заочно выучиться на судового инженера. В глазах начальства это кое-что значит, хотя сам Дикун почти ничего не выиграл от перемены статуса: ни в зарплате, ни, тем более, в валюте.(?) По правде сказать, он не очень к этому и стремился. Не меркантильные интересы заставили его зубрить теплотехнику и судовые механизмы, урывая часы у сна и отдыха. В основе всего лежали чисто престижные соображения. Пусть высшее мореходное училище выпускало не только хороших штурманов, но и знающих инженеров, была все-таки разница между вчерашним школьником и опытным мотористом, который по одному лишь звуку мог определить любую неисправность. Дикун лучше других понимал, что разница эта была. Курс, таким образом, был взят правильный. Лишь одного он не учел, некоей трудноопределимой малости, которую работающие в пароходстве социологи, за отсутствием более строгого термина, именуют «чисто человеческим фактором».
Едва защитив диплом, Дикун получил должность четвертого, а через каких-нибудь полгода и третьего механика. И хотя дальнейшее продвижение на этом застопорилось, он уже почувствовал неодолимую потребность в непрерывном восхождении. Словно стремился во что бы то ни стало наверстать упущенное. Это, скорее всего, и помешало ему наладить правильные отношения с коллегами, которые были старше по положению, но младше по возрасту. А от вчерашних друзей он и вовсе отдалился. Сделался суетливым, придирчивым, а его бьющая через край инициатива стала вызывать насмешки и опаску. Особенно боялся ее Загораш, предпочитавший, по мере возможностей, держать третьего механика в поле зрения. Стармех вполне справедливо полагал, что за деятелем, который в угоду любому приказу ходовой рубки, готов изнасиловать машину, нужен глаз да глаз.
Так кого же еще из своих инженеров он мог выделить в помощь Шимановскому? Конечно же, Дикуна, который, к тому же, сам напросился. Петру Казимировичу не оставалось ничего другого, как согласиться. Он, конечно, и мысли не допускал, что тот и в аварийном лазе сумеет выкинуть какой-нибудь фортель. Однако, как часто случается, действительность опрокинула благие надежды. Если бы Дикун сам, как намеревался, отправился в лаз, ЧП, наверно бы, не случилось. Но вся беда в том, что в его беспокойной, одолеваемой честолюбивыми заботами голове загорелась новая идея. Вернее, он просто вспомнил, что обещал Горелкину отпечатать фотографии для судовой газеты и даже развел с утра проявитель и фиксаж.
Замерев в полете, как птица, у которой неожиданно перебили крыло, Дикун схватился за прут и перепрыгнул на трап, ведущим в мастерские. На его счастье, Геня пребывал на своем месте. Стоя у станка, он обтачивал болванку под вкладыш для подшипника опреснительной установки. Эмульсия тонкой молочной струйкой стекала на свежую золотистую поверхность, от которой удивительно мягко отслаивались бесконечные завитки стружки. Шпиндель вращался на самой высокой скорости, и поэтому Геня был в предохранительных очках. Он следовал не столько инструкции по технике безопасности, сколько настоятельному совету Шередко, который от своего нового приятеля из Москвы-радио знал о печальных последствиях глазной операции.
— А ну бросай свою канитель, — не терпящим возражения тоном распорядился Дикун, подбоченясь в дверном проеме. — Есть срочное задание начальства.
— Какое еще задание? — Геня нажал красную кнопку и выключил станок. — Дед приказал вкладыши точить.
— Вкладыши обождут. Ты в электричество кумекаешь?
— Ну?
— Тогда живо, берись за дело. Учти, что от этого зависит живучесть парохода.
Объяснив Гене, что требуется сделать, если обнаружится неисправность в проводке, он бросил на верстак рукавицы и инструмент.
— Справишься?
— Постараюсь, — Геня отвел в сторону резец и пошел к рукомойнику. Самолюбие не позволяло ему признаться, что он спускался в аварийный лаз только однажды, когда проходил ознакомительную экскурсию по теплоходу. ; ;
— Ляжешь спиной на тележку, — счел нужным пояснить Дикун, — и пошел. Только не очень разгоняйся. а то мигом слетишь с рельсов, — покровительственно похлопав Геню по плечу, он с проясненным лицом поспешил в фотолабораторию, которая размещалась рядом с библиотекой, в горячей кладовке, где в три ряда были проложены трубы с вентилями, идущие из машинного отделения.
Дикуну к жаре было не привыкать. Раздевшись до трусов, он включил красный фонарь, настроил увеличитель на формат 9Х12 и принялся делать отпечатки. Трудился до самого обеда. На скорую руку перекусив отглянцевал фотографии, развесил их на шкерте и завалился спать, накрыв по обыкновению голову подушкой.
Будь на месте Гени другой, менее интеллигентный одесский мальчик, он бы знал, куда следовало послать третьего механика вместе с его поручениями. Впрочем, Геня тоже знал, но помешала природная деликатность. А еще он не успел привыкнуть к загранке и хотел показать хамовитому придире, на что способен токарь пятого разряда. Кумекаешь, видите ли, в электричестве! Чья бы корова мычала... Упоминание о живучести не произвело на Геню ни малейшего впечатления. Это была чистейшая травля, рассчитанная на дураков.
Он спустился на нижнюю площадку машинного отделения и, поплевав на руки, раскрутил массивную крышку люка. Нашарив коробку, к которой были подведены несколько многожильных кабелей, включил освещение. Начинать, пожалуй, следовало именно с этой коробки, выкрашенной, как и все вокруг, в огненно-красный цвет. Убедившись, что тут все в порядке, нырнул непосредственно в люк. Теперь Геня находился в самом глубоком туннеле судна. Намного ниже ватерлинии. Коснувшись ладонью вогнутой стенки, он ожидал почувствовать чуть ли не обжигающий холод. Может быть, потому, что от океанской воды, сжатой избыточным давлением в добрую атмосферу, его отделяло только несколько сантиметров стали. Но обмазанный суриком металл оказался не более прохладным, чем резиновая оплетка проводов. Да и могло ли быть иначе, если температура забортной воды достигала 22° С, а тепло мерно рокочущих машин тяжело оседало в нижних отсеках.(?)
Тележка, о которой упомянул Дикун, стояла в самом начале узкого рельсового пути, проложенного вдоль всего судна: от кормы до бака. Она напоминала платформы, на которых катили в первые послевоенные годы безногие инвалиды. Мысль о том, что сюда нужно лечь, показалась Гене дикой. Сесть на тележку тоже не представлялось возможным — мешала голова. Она как раз пришлась на уровне верхних швеллерных ребер, разделивших узкую трубу на многочисленные отрезки. Кое-как устроившись, Геня оттолкнулся рукой от одного такого ребра и к своему удивлению покатил ногами вперед по лазу. В затхлом воздухе, настоенном на железе и резиновой изоляции, дышалось затрудненно. В глаза посыпалась шелушащаяся краска и ржавая пыль. Рыжеватый налет осел и на ламповых плафонах, утопленных в межреберных нишах, отчего свет в туннеле тоже казался ржавым, больным. Помня совет Дикуна, Геня старался не разгоняться. Удары колес по направляющим, и без того весьма ощутимые, отдавались в позвоночнике.
Что и говорить, нужен был особый навык, чтобы, прижав подбородок к груди и залихватски вытянув поги, бездумно лететь, черт знает куда, под металлический стук и мелькание огней, исходящих тоскливой сукровицей. Но если бы даже Геня и обладал опытом третьего механика, для которого пролет по трубе был всего лишь забавой, ему все равно следовало поспешать медленно. Только обследовав двадцатую или двадцать первую лампу, он понял, какую ему подкинули работенку. Удружили, что называется, по высшей категории. Ведь одно дело подгонять бегущую платформу, когда швеллера так и мелькают под руками, другое — каждый раз заново сдвигать ее с места. И откуда в ней эта непомерная тяжесть, словно в дрезине какой? Да и держать навесу руки делалось всё труднее. Гепя не проделал и трети пути, как пришлось устроить продолжительный передых. Наверное, полчаса прошло, не менее, пока он отдышался, пока отошла дрожь от напряженных мышц, налитых болезненным ломотным теплом. Но едва двинулся дальше, как все возвратилось: и сводящая судорогой ломота, и эта противная дрожь, когда отвертка неожиданно вываливается из посиневших пальцев. Ищи ее всякий раз между рельсов. Однажды, шаря так в ржавой пыли, он нащупал нечто податливо-омерзительное, но не стал доискиваться, что именно. Скорее всего, дохлая крыса, проникшая в баковый люк. Несмотря на резиновые заслонки, которые цеплял на швартовые канаты боцман, крысы изредка ухитрялись забираться на палубу. Боцман клялся, что сам видел, как в Неаполе, где они, как известно, кишмя кишат, один громадный пасюк лез на военный корабль по якорной цепи. Переключившись с плафонов на другое, пусть даже на крыс, Геня перестал замечать, как мелькают клеммы, и дело пошло быстрее. В руках появился некоторый автоматизм, а тележка научилась двигаться с места.
Примерно до пятьдесят пятого шпангоута все шло чин-чинарем.
Темное пространство, кольцевой тенью разделившее сужающуюся на конце трубу, Геня заметил еще издали. Если неисправность действительно произошла в лазе, то искать ее, конечно же, следовало именно там, вблизи сгоревшей лампы. Он лишь подивился тому, что столь незначительное замыкание заставило сработать главную блокировку. По соображениям живучести выход отдельных узлов из строя не должен сказываться на всей системе.
Включив фонарик, Геня внимательно осмотрел обуглившуюся изоляцию и черное пятнышко обгоревшей краски. Ему пришло в голову, что изоляцию могла повредить обезумевшая от жажды и голода крыса. Скорее всего, так оно и случилось. А потом проскочила искорка и проволочка сгорела. Он осветил номер на стенке — шпангоут шестьдесят три — и натянул перчатки. Дело было пустяковое. Предстояло зачистить нагар, удалить поврежденный отрезок и тщательно заизолировать концы. Остальное сделают электрики, когда спустятся сюда с паяльником.
Обрабатывая шкуркой законченную поверхность, Геня думал о том, как неладно получилось у него с Тоней. Раскаивался, что не сумел сдержаться. В ее отношении к нему сомневаться не приходилось. Сколько Геня ни пытался завязать непринужденный разговор, ничего путного не выходило. Она явно избегала его с того мерзкого утра, когда Горелкин влез со своими нравоучениями. Хотелось думать, что во всем виноват именно Иван Гордеевич, а сам Геня лишь пошел на поводу у событий. Так было спокойнее и что-то светило впереди. Зато о деде, вернее о них обоих — Тоне и деде, — даже мысль одна нестерпимой казалась, словно удушье подступало к горлу.
Учащенно дыша и поминутно отирая саднящий глаза пот, Геня вырезал поврежденный участок. Сгорело совсем немного, отчего не сработала, вероятно, скринктерная противопожарная система. Осталось последнее — обмотать оголенную проволоку липкой лентой.
Покончив с ремонтом, Геня полежал без движения, расслабив обессилевшие руки. Теперь он мог позволить себе небольшое развлечение: понестись по пням и кочкам, как сказал на той экскурсии «дракон» * (*боцман). Для этого надо резко, изо всех сил, оттолкнуться и поджать ноги.
Так оно и получилось, как мыслилось. Замелькали пальцы вверху, едва касаясь швеллерных ребер, и тележка грохоча набирала скорость, и со звоном подскакивали ее чугунные колеса. О том, что обследовал только часть туннеля и впереди, возможно, тоже есть повреждения, Геня как-то не задумался. Полностью уверенный в том, что с блеском выполнил трудное поручение, он испытывал скорее гордость. Такое не каждому по плечу. Теперь можно было расслабиться, отдаться позабытому
ощущению полета. Вспомнилось детство, дача Ковалевского, захватывающая жуть падения с откоса, когда над головой взлетел вырвавшийся из рук самокат и в небе жужжали разогнанные подшипники.
Сокрушительный удар развернул Геню поперек платформы и бросил на рельсы. Задев за шпангоут плечом, он едва не размозжил голову об острый выступ. Лишь рваная борозда обозначилась от виска до щеки. Но все это прошло уже мимо сознания, погашенного нестерпимой, всепоглощающей болью в ноге. Последнее, что запомнилось Гене, был рокот укатившей тележки, замирающий в ржавой мгле.